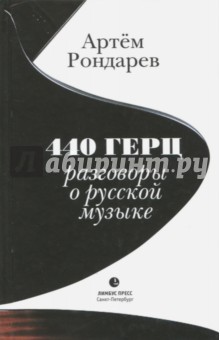Публикуем расшифровку лекции «Идеология русской поп-музыки», которую прочитал культуролог, музыкальный критик Артём Рондарев на книжном фестивале НИУ ВШЭ «Школьный двор», прошедшем в начале сентября 2017 года.
Какова функция поп-музыки в обществе? Зачем российские композиторы воруют музыку у западных коллег? По каким причинам русский рок проиграл схватку с рэпом? Почему решение Оксимирона выступить в “Олимпийском” – стратегическая ошибка? Ответы – ниже.
Рондарев: Для чего социально нужна поп-музыка, кто-нибудь может сказать? Когда я говорю «поп-музыка», я имею в виду и Rolling Stones, и певицу Бейонсе, группу «ДДТ» и Филиппа Киркорова вместе взятых. Вопрос звучит так: для чего нужна вся эта цветущая разнообразность в социальном плане?
Ответ из зала: Просто банально чтобы в лифте звучала какая-то интерьерная музыка, даже это может быть причиной для написания. Мне не кажется, что на этот вопрос можно ответить одной фразой, у неё в любом случае не одна функция.
Рондарев: Отлично, вы упомянули так называемую «лифтовую музыку» – для чего она существует?
Ответ из зала: Заполнить, декорировать пространство. Звуковой аналог визуальной декорации, картины на стене.
Рондарев: А в самолётах для чего музыка играет?
Ответ из зала: Чтобы тем, кто не спит, было что делать.
Рондарев: В самолёте при взлёте и посадке играет одна музыка, а в полёте другая. Почему? Вот вы едете в лифте, зачем вам тот джайв, который там играет?
Приведу мой любимый пример. В 90-е годы в магазинах, где продают вино, было проведено исследование. Условия эксперимента я в точности не назову, но суть в том, что на одной неделе звучала музыка на немецком языке, на другой неделе – на французском. Как вы думаете, что из этого вышло?
Ответ из зала: Покупали немекцие и французские вина.
Рондарев: Совершенно верно. Музыка нормировала людей в ту форму поведения, которая в данном случае необходима продавцам. Это и есть самый простой ответ. Социальная функция поп-музыки – нормативная. Она состоит в том, чтобы социализировать человека в подобающую ему форму поведения в обществе. Чтобы пояснить эту мысль, нужно поднимать грамшианско-бартовско-альтюссерианскую тему существования класса-гегемона, требующего от подчинённых классов определённого поведения. В этой схеме вся функция поп-культуры состоит в обеспечении этого поведения.
Beyonce почти 20 лет выступает на сцене, регулярно меняя облик и идеологию своих песен. И все поклонники (в первую очередь – поклонницы) покорно следуют за трендами, которые она транслирует.
Она начинала в группе Destiny’s Child, где они в каких-то обмотках, мало что скрывающих, пели о том, что они – женщины, которые ничего не боятся, но им нужен мужик. Если будет мужик – то всё нормально, дальше вообще бояться нечего. А потом, спустя десять лет, не снимая обмоток (только вместо леопардовых она теперь в каких-то чёрных обмотках, я в моде не разбираюсь, но заметил такое изменение гаммы), поёт о том, что она сильная женщина, она феминистка, ей ничего не нужно, она сама может всё обеспечить – был бы мужик. И те, кто её слушают, выходят и говорят: «Да, мы феминистки. Если у нас будет мужик, у нас всё будет в порядке». Причём внешне ничего не меняется, она, как и прежде, выходит на сцену в этих «обносках», происходит объективация её мужским взглядом в полном размере. Но при этом мысль, которую она транслирует, чуть-чуть другая. 15 лет назад феминизм был не очень социально приемлемым словом, она о нём не говорила. Теперь феминизм, именно такой, гламурный – это мейнстрим. И Beyonce поёт про эти феминистические темы, ничего более не меняя в своей музыке. А новое поколение её аудитории воспринимает эти ценности.

Если вы откроете Elle, Wonderzine, ещё кучу женских журналов, то там будут говорить об empowerment`е женщин, о том, что женщина должна быть самостоятельной. Но, тем не менее, нужно всё равно хорошо одеться, чтобы мужик был. Поверьте, ещё 15 лет назад такая форма феминизма отсутствовала.
Это самый простой пример того, как действует в социуме поп-музыка. В связи с этим, задумав написать книжку, я решил рассмотреть, как работают эндемичные нашей русской поп-музыке свойства, связанные с её довольно странным развитием. Посмотреть, какие идеи, какую идеологию и какие нормативы она транслирует.
(Речь идёт о книге «Эта музыка будет вечной», которая должна выйти в Издательском доме ВШЭ в серии «Исследования культуры» в 2018 году – прим. ред.)
У русской поп-музыки большое количество своеобразных черт. У нас без прерывания традиции транслируется одна идея, связанная с народностью в музыке. Вы все слышали русскую попсу. Между попсой и поп-музыкой есть некоторая разница, не буду сейчас вдаваться в подробности, но вы все её прекрасно понимаете. И вы, скорее всего, обратили внимание, что она предельно мелодична. Об этом написаны книжки, этот её секрет легко раскрывается – там используются несколько приёмов. Она минорная и мелодичная. С чем это всё связано? В первую очередь, с тем, что у нас есть непрерывная традиция представления о том, что правильная хорошая музыка должна иметь опору в народном мелосе.
Эта теория разрабатывается ещё в 60-70-е годы [XIX века] музыкальным критиком Стасовым и «Могучей кучкой», которую он опекал. Потом она подхватывается в советское время главным нашим музыкальным идеологом Борисом Асафьевым, который пишет несколько книжек, в которых постоянно ссылается на идею народного мелодичного интонирования, которое, по большому счёту, является сообщением. У Асафьева интонирование – это форма, аналогичная словам, фонемам, и вообще речи повседневной и не повседневной. Если следовать теории Асафьева, то музыка может передавать грамматические сообщения, которые мы способны декодировать на рациональном, когнитивном и прочих уровнях.
Эта традиция доживает у нас до 90-х годов – просто потому что СССР существует до 90-х годов. И по большому счёту, вся наша попса, которая звучит «сиротским» напевным образом, наследует традиции довольно забавно – она наследует традиции русского национализма. При том, что 80 лет советская власть транслировала идеи интернационализма, тем не менее, всё равно существовал русский народ, у которого была душа, и в этой душе заключались все главные сокровища, которые потом высокое искусство доводило до совершенства. Идея абсолютно националистическая, и она, как это не комично, именно в форме нормативного представления о том, какой должна быть музыка, которую транслирует советская власть, дожила до наших времён.
Поэтому когда Тане Булановой в 90-е годы говорили: «Ну что вы поёте совершенно одинаковые песни, сиротским голосом, про любовь и про малыша», она отвечала: «А вы посмотрите на зал – зал-то плачет». То есть человек ссылается на идеал народности. А что такое народность? Это то, что понятно всем.
Есть какие-то «абстракцисты», авангардисты и так далее, которые занимаются чёрт знает чем – это всё вы слышите до сих пор. А есть «настоящие художники», которые делают музыку, понятную народу. И вся наша советская попса, начиная от Тани Булановой и заканчивая Филиппом Киркоровым (у которого, как известно, в творчестве много римейков, в связи с чем он якобы транслирует западную традицию), – у них всех под этим лежит представление о том, что они делают музыку для народа, а не какие-то сложные вещи, для понимания которых нужно специальное обучение.
В этой ситуации они правы не эстетически, не технически и не методологически – они правы, потому что они поддерживают народную традицию.
Если вы думаете, что ситуация ограничивается Филиппом Киркоровым, то вы ошибаетесь, потому что на другом конце спектра у нас есть Кинчев и Башлачёв. Про «святую Русь», про «время колокольчиков». Этим же напевным широким ходом. У Башлачёва используются те же приёмы, что у попсы – побочные доминанты, минор, мелодические секвенции. Просто пока никому не пришло в голову (видимо, из почтительного уважения) взять и положить банальный синтезаторный бит на песню Башлачёва. Тогда стало бы очевидно, что по техническому и идеологическому подходу от проклинаемой всеми попсы это мало отличается.
Как известно, наш рок-н-ролл – противник попсы, он с попсой сражается (Юрий Юлианович Шевчук напрямую вышел сражаться с Киркоровым – проиграл), но эти люди оппонируют даже не на идеологическом, а на субкультурном уровне.

Можно себе представить панков и металлистов. Панки, особенно в 80-90-е годы, позаимствовали огромное количество тяжёлой металлической музыки. Хардкорный панк, straight edge, отличается от метала только тем, что у них песни короче и записаны на более дерьмовой аппаратуре. Тем не менее, существует такой батл: панки ненавидят металлистов, металлисты ненавидят панков. Это чисто субкультурная ненависть, которая не подкрепляется никакими методическими, техническими средствами, потому что люди делают одну и ту же вещь. Я имею в виду именно хардкорных панков – они просто забивают слушателю гвозди в мозг, чтобы он офонарел, вошёл в состояние аффекта, пошёл в мош-пит, послэмился. Они разряжают человека не эстетическими средствами, а средствами накопления агрессии.
Металлисты ненавидят панков, панки ненавидят металлистов. Наша попса и рок-музыка золотого и серебряного века (до появления Шнура) находятся в тех же взаимоотношениях. У них одинаковые технические, генетические и идеологические подходы. Разница только в том, что у одних – гитары, а у других – синтезаторы.
В случае русского рока это связано с набором черт, унаследованных от советского рока. Чем был советский рок? Это музыка, которая никак не зависела от потребителя, просто потому, что её не покупали и не издавали. Её распространяли на кассетах, подпольно. Иногда «Мелодия» выпускала какой-нибудь диск Бориса Гребенщикова с вводным словом Андрея Вознесенкого, который даже придумал определение «постпинкфлойд». Но в основном эта музыка распространялась на некоммерческой основе. Это означает, что аудитория, эта апроприирующая инстанция, никоим образом не могла воздействовать на эстетические, технические и прочие воззрения русских рокеров.
Это была очень удобная ситуация. Слушатель получал кассету. Ему говорили: «Слушатель, ты должен быть счастлив, что тебе попала в руки эта кассета. У тебя не должно быть больше никаких претензий. Втыкай её в магнитофон и балдей». Вся творческая свобода, которая потом куда-то пропала, обусловлена именно этой причиной.
Второй факт, который также эндемичен для русского рока, связан с тем, что все, кто его делал, росли в той же нормативной среде, что и остальные советские люди. А эта среда очень жёстко провозглашала одну простую вещь, которую на Западе перестали провозглашать лет на 20 раньше – что существует «высокое искусство» и «низкое искусство».
Не вдаваясь в подробности: «высокое искусство» – это искусство сложное, а «низкое искусство» – простое, оно тоже допустимо, но только в качестве «голубых огоньков», вечерних дискотек – то есть, как способ разрядиться пролетариату после тяжёлого трудового дня. Но претендовать на такой же статус, как, условно говоря, музыка Шостаковича, оно не могло.
Рок-н-ролл – музыка очень простая. Если любому из вас дать в руки гитару и объяснить, что делать, то через 15 минут какой-нибудь рок-н-ролл уже сыграете. Представлять рок-музыку как высокое искусство через музыкальную составляющую было невозможно – потому что она простая, ничего с этим не сделаешь (хотя Борис Гребенщиков с этим пытался бороться, привлекая несколько небанальных аккордов и развозя свою музыку на семь минут вместо положенных трёх). И наши рокеры наследовали советской музыкальной низовой традиции.
А она была всем хороша – там был блатняк, сиротские и тюремные песни, городской романс, Вертинский и так далее. Но у неё был один изъян – она ритмически была настолько банальна, что даже стол намного сложнее, чем низовая традиция советской музыки. И когда Борису Гребенщикову, а потом и Цою, стали вменять в вину, что они перепевают чужие песни, песни западных исполнителей, то это было связано не с тем, что Борис Гребенщиков не мог сочинить ничего своего – прекрасно может, как показывает его творческое долголетие – а с тем, что люди пытались перенять именно ритмический рисунок, который невозможно было взять из своей собственной традиции.
В рамках советской системы всё хорошее и высокое обязано было быть новым и уникальным. Такая ситуация связана с представлением о бытийствовании искусства в социуме: всё великое – новое, ранее не слышанное. Эта традиция на самом деле очень недавняя, она возникает в XVIII веке, а до этого под хорошим искусством понималось такое, которое, наоборот, повторяло лучшие образцы.
В этой ситуации каждое новое произведение обязано было быть оригинальным. В этом смысле Гребенщиков, который просто берёт и немножко переводит, а частично пересказывает тексты какого-нибудь Боуи или какой-нибудь Патти Смит, ведёт себя как человек более эстетически целесообразный, нежели все те, кто вменяет это ему в вину. То есть он, по большому счёту, делает музыку западной, отваживается выйти за рамки собственного советского дискурса и перейти в интернациональное поле смыслов. Делает он это, потому что ему в собственной культурной традиции неоткуда взять образцы – в первую очередь, ритмические, образцы рок-н-ролла.
Возникает большая проблема, похожая на ту, которая возникла у русского хип-хопа в 90-е годы: все хип-хоперы, которые честно прочитали мануалы о том, как делать хип-хоп, чётко знали, что хип-хопер не может быть таковым, если у него нет гетто. Нет гетто – ты никто. И в 90-е годы хорошо видно по Владу Валову и другим, что наши хип-хоперы искали своё гетто. А русские рокеры ещё до них искали в собственном творчестве элементы высокого. И они их быстро нашли – это “слова в столбик”, которые нервные люди называют стихами.
Когда ты играешь музыку на трёх аккордах, совершенно очевидно, что это музыка простая, понятная, назвать её сложной невозможно никак. Но если ты пишешь слова в столбик, да ещё и с рифмами, то ты однозначно поэт. Это хорошо видно, потому что у нас поэтами называли всех, включая поэта Асадова. Человек, который пишет рифмованные слова в столбик, занят высоким искусством, потому что поэт – это важное большое серьёзное звание. Музыканта можно назвать лабухом в ресторане, и всё будет понятно – да, он музыкант, но он не представляет высокую традицию. А поэта нельзя назвать “поэтом в ресторане”, нет такого звания.
Наши рокеры принялись писать длинные пространные тексты с большим количеством метафор, тропов и так далее. Представляли это всё не как рок-тексты, не как тексты к поп-музыке, а как поэзию. Особенно легко это заметить по Кинчеву, который говорил, что по его стихам и по стихам СашБаша дети будут учиться поэзии.
Я говорил о полной независимости нашего рока от апроприирующей инстанции. Это очень характерно, особенно на фоне того, как существует западная музыка, в которой, особенно в 60-е в связи с “Битлз”, пошёл разговор о том, что это музыка высокая. Но там этот разговор инициировала как раз апроприирующая инстанция – люди стали писать тексты, в которых они как музыковеды разбирались с музыкой “Битлз”.
Существует известная шутка Леннона, которому зачитали разбор какой-то его песни, и он сказал: “Надо же, я и не думал, что я так сложно сочиняю музыку”.
Есть история о том, как Пол Маккартни очень боялся выпускать песню Yesterday, чтобы не потерять аудиторию: “Мы же рок-н-рольная группа на трёх аккордах, простые ребята, наша аудитория – это молодёжь, которая пляшет, а тут – скрипки какие-то”. В итоге в Британии сингл так и не выпустили, он вышел только в Америке. Но оказалось, что есть много людей старшего поколения, которые уже прислушивались к этой музыке и что-то в ней находили, но всё равно было стрёмно, потому что музыка эта – агрессивная, дети под неё бесятся, с ней не очень удобно иметь дело. И тут им заводят песню, а там – струнный квартет! И они понимают, что имеют дело с серьёзной продукцией, потому что струнный квартет – это маркер высокой традиции. Yesterday в итоге даже попала в “Книгу рекордов Гиннесса” как самая записываемая песня – к 2009 году на неё записали около 1600 каверов.
У нас же этой апроприирующей инстанции не было, не было никакой возможности повлиять на происходящее. Но вот возникает потрясающая ситуация, которую наша поп-музыка всегда призывала – появляется свобода самовыражения. Выясняется, что можно петь на любой площадке, собирать стадионы, получать за свою работу деньги.
Русские рокеры говорили: “как только репрессивная машина падёт, мы выйдем к людям и сразу завоюем аудиторию, потому что мы говорим правду, а правда всегда сама всё сделает, нужно только убрать препоны на её пути – мы же играем правильную музыку”.
Препоны убрали, и внезапно выяснилось, что существует какая-то богомерзкая попса. Что есть группа “Мальчишник”, группа “Кар-Мэн”, есть певица Наталья Ветлицкая, которую совсем уже умело склепали, а до этого была группа “Мираж”, которую склепали не очень умело, но она тоже штырила. И этой богомерзкой попсе все несут деньги. А рок-н-ролл, который до этого выживал в качестве даже не субкультуры, а контркультуры, лелеял все эти советские по сути сантименты о том, что существует правильная музыка – высокое искусство – которое, стоит только его допустить к народу, этот народ завоюет. И когда произошёл этот выход к народу, то выяснилось, что народу эта музыка не нужна.
90-е годы суммированы в очень короткой известной работе Кормильцева “Великое рок-н-ролльное надувательство-2”. Причём Кормильцев показывает бездны непонимания того, что произошло. Он вменяет в вину самим рокерам, что они растеряли свою аудиторию из-за того, что связались с платными прогосударственными структурами. Вот они играли где-то за Ельцина, они играли где-то ещё за кого-то – и поэтому наш рок-н-ролл превратился в маргинальное чучело, которое никому не нужно. Дело, конечно, не в этом. Но это очень характерный текст человека, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы сложилось представление о рок-н-ролле как о мероприятии, сообщающем людям правильные вещи.
А что это за мероприятие, сообщающее правильные вещи? Это та самая нормативная рамка, внутри которой существует набор предписаний о том, как себя вести. Советский рок претендовал на то, чтобы объяснять людям, как они должны себя вести правильно. Русский рок тоже пытался поднять эту оглоблю и вздеть на шею, но выяснилось, что народу не нужно, чтобы рок рассказывал ему, как себя вести.
Эта тяжёлая драма суммирована в виде полного непонимания ситуации у Кормильцева. Если бы не было этого текста, можно было бы сказать, что сейчас я спекулирую – взял да и придумал. Но Кормильцев был одним из центральных идеологов рок-движения, и такой текст существует.
Тот тупик, в котором пребывает русский рок уже лет 20 – ситуация, связанная с отсутствием новых тем, с перепеванием самих себя, с работой на свою ядерную аудиторию и с невозможностью выйти за её пределы – в этот тупик пришли не потому что какие-то группы сыграли в поддержку Ельцина, и не потому что рок-н-ролл внезапно утратил творческий потенциал. А произошло это по очень простой причине – потому что русский рок как существовал в советской идеологической рамке, так и продолжил в ней существовать.
И эта ситуация, в которой аудитории нужно другое – это и есть идеологическая ситуация последних, условно говоря, двадцати лет существования нашей поп-музыки, начиная с 91 года и заканчивая нашим временем.
Аудитории нужно другое. Вопрос в том, а что ей нужно. Ответ уже дан, причём в обоих сегментах. Если мы говорим, что есть поп и попса, то в случае с попсой характерным явлением стало инкорпорирование в неё того, что называется русским шансоном – Лепса, Стаса Михайлова и так далее.
Где-то месяц назад я читал лекцию по попсе, и у меня были музыкальные примеры – я сначала заводил “Миллион алых роз” в исполнении Аллы Пугачёвой, а потом – “Миллион алых роз” в исполнении какого-то там “Гоши Кемеровского” в ресторане. В это ресторанное звучание песня ложилась идеально, потому что русская попса продолжает идеологическую традицию сиротской песни, связанной с народностью, со слезливой интонацией.
А во втором сегменте ответ был дан хип-хопом. В двухтысячные годы хип-хоп внезапно убрал русский рок по всем фронтам. Он пришёл, и по большому счёту отнял все проблематики у русского рока с точки зрения “правого реванша”.
Идеология русского рока, несмотря на все сложности, связанные с заигрыванием Летова и Курёхина с НБП, была идеологией левого утопизма. И выяснилось, что этот левый романтизм – половинчатый, советский, связанный с авторитарной и тоталитарной эстетикой. Вы сами можете видеть, что огромное количество людей, ностальгирующих по Советскому Союзу, легко сливаются с консервативными идеалами правого порядка – тот же Прилепин.
Пришедший на смену русскому року хип-хоп никаких сантиментов по этому поводу не выказывал. Все националистические, антисемитские, антифеминные, гомофобные импликации хип-хопа любой из вас, кто слышал эту музыку, знает. Они там в полной мере есть. Во многом это вещи разыгранные, но тем не менее, это прямая правая эстетика, правая идеология, которая приходит на смену идеалистической романтической идеологии русского рока, которая ссылается на ситуацию, где есть правда, а есть неправда в форме попсы и тоталитарных представлений, которые они вроде как преодолевают.
Весь русский рок связан с представлением о том, как ты должен себя вести. Если завести любую песню “ДДТ” или Кинчева, там это будет пропето по полной программе. То есть, наш рок был занят социализацией людей в граждан авторитарного государства, но при этом он всё время стоял в позе русской берёзки: “Мы, конечно, говорим, как надо и как не надо делать, но при этом мы мы следуем традиции свободы”. А потом пришёл хип-хоп и сказал: “Никакая традиция свободы нас не интересует, мы живём в этом государстве, мы должны зарабатывать деньги, должны отстаивать идеалы своей малой группы, субкультуры, малого внутреннего круга, и ничего больше нас не интересует”. И внезапно оказалось, что это именно то, чего ждёт от поп-музыки широкая аудитория.

Возбудивший всех батл Оксимирона с Гнойным – он же, собственно говоря, был о чём? Гнойный предъявлял Оксимирону за то, что Оксимирон – еврей. А Оксимирон предъявлял Гнойному, что Гнойный – это советская сволочь. На этих простых, неприемлемых в приличном обществе фактурах, они друг с другом бились. Плевали друг в друга, пихали друг друга плечами. То есть, выясняли, чья малая группа важнее, не апеллируя ни к каким высоким ценностям.
Потом началась вакханалия – вылезли люди, которые начали писать, что этот батл – метафора нашего общества, нашей свободы, того, сего, пятого, десятого. Но любой, кто слушал этот батл, понимает, что там этого в помине не было, что это вылезли старые интерпретаторы, живущие в советской нормативной рамке, которые попытались всё это дело апроприировать, причём попытались очень плохо. По-моему, Митя Ольшанский сказал, что это борьба двух журналов: с одной стороны, “Огонёк”, а с другой – “Наш современник”, причём “Наш современник” – это был Гнойный, а Оксимирон – “Огонёк”.
А с другой стороны вылезли люди, которые сказали, что всё на самом деле не так. И в подавляющем большинстве случаев звучало, что здесь находится свобода, которую мы так давно ищем. Только для одних это была свобода “Нашего современника”, а для других – свобода “Огонька”. Больше разницы никакой не было.
Всё субкультурное значение этого батла состоит в том, что люди вышли на свою площадку, куда допускаются только свои (если бы там появился какой-то чувак и крикнул: “Рэп – говно”, из него бы лапшу нарезали, и правильно бы сделали), которые знают эти правила, понимают, как реагировать, какой символ, какой троп, какая метафора что означает. То есть, это внутренняя субкультурная “тёрка”, не претендующая ни на какие глобальные обобщения.
Хип-хоп уничтожил русский рок ровно поэтому. Оказалось, что это самый простой ответ на вопрос “что нужно постсоветскому человеку?” Романтизмом, декларативным альтруизмом, высоким искусством и правдой жизни он сыт по горло, ему это не нужно в принципе. А нужно, чтобы в том лифте, в котором он едет, звучала музыка, которую он хочет слышать. И чтобы эта музыка не претендовала на то, чтобы звучать по всем радиостанциям.
Почему проблематичен Оксимирон – человек, который хочет поднять “Олимпийский”? Стратегически это очень плохая задача, потому что он хочет собрать вокруг себя не субкультурный, а опять же, советский, в данном случае – постсоветский народ.
Я думаю, что Оксимирон ещё надломится под этой проблемой, потому что у нас до сих пор существует запрос на партикуляризм. То есть, на ситуацию, в которой мы не примыкаем ни к каким философским, социальным и прочим идеологиям – мы исключительно в субкультурном поиске своих. Находим какую-то референтную группу, находим музыку, которую эта референтная группа слушает, сбиваемся вокруг этой музыки в банду. Пока с этой бандой мы не бегаем с топотом по улице, но, может быть, и до этого дойдёт. С этой музыкой на флаге с топотом бежим, соседний район сметаем.
То есть, нет запроса на некие объединяющие весь народ ценности. Есть запрос на объединение небольших локальных коммун, которые между собой выясняют отношения.
Русский рок предлагал общую нормативную рамку, а хип-хоп предлагает только одну нормативную рамку – если ты входишь в нашу субкультурную группу, ты должен делать то-то и то-то. Если ты в неё не входишь, ты волен делать всё что хочешь. Довольно эмансипаторный месседж. “Но не обижайся, если мы потом намнём тебе морду, если ты нам встретишься, потому что с нашей точки зрения ты делаешь не то”. То есть, ты не должен приносить присягу целому хип-хопу, приносить клятву верности, как того требовал русский рок. Ты должен выбрать одну-две группы, которые ближе всего тебе по социальным, географическим, коммунальным причинам. Тебе будет хорошо, всем будет хорошо, ты ни к кому не лезешь, никто ни к кому не лезет.
У меня получилась не очень логически выстроенная лекция, потому что много тем, и приходится их комкать. Остался список из тем, в котором пунктов двадцать, и времени на них уже нет. Я просто набросал представление о том, какие проблематики могут существовать в рамках описания российской поп-музыки не как какого-то эстетического, этнографического феномена, а именно как феномена идеологического. Я надеюсь, это будет интересно. А пока, если есть вопросы – задавайте.
Купить книгу Артёма Рондарева:
Вопрос из зала: Вы говорили о том, что у Киркорова есть римейки, он не везде указывает источник, но не важно, каверы это или нет. Что вы думаете о том, что в русской музыке много заимствований без указания на авторство оригиналов?
Рондарев: Как они разбираются с тем, у кого они спёрли, я не знаю. А сам факт наличия у нас римейков я уже описал, только применительно к Гребенщикову – это та же попытка найти ритмическую основу, найти форму ритмического выражения, которая отсутствует в собственной культуре. То есть, люди смотрят на сиротские песни, на дворовые песни, “а ты опять сегодня не пришла” – смотрят, и понимают, что там всё есть, там прекрасные слова, прекрасные аккорды, но там вообще нет ритма. Что с этим делать? Они приходят к композитору и говорят: “Композитор, напиши нам какую-нибудь ритмичную песню”. А композитор им – какую-нибудь твистяру в лучшем случае. Они говорят: “Твист играют уже 50 лет, сколько можно?”
Композитор Петров в своё время писал музыку к фильмам, просто слушая пластинки Дэйва Брубека и переписывая их. Это было не потому что композитор Петров плохой, или потому что композиторы Киркорова – какие-то ослы, которых не выучили в консерваториях. Это происходит, потому что если в твоей культуре нет никакой ритмической составляющей, то тебе её даже внутренним слухом услышать неоткуда. И тогда ты, уже отчаившись, идёшь к людям, у которых всё это есть, берешь и переписываешь. А уж как потом с роялти, приходит ли потом к Киркорову цыганский барон и говорит: “Ты зачем спел нашу песню и не указал авторство?” – этого я не знаю.
Вопрос из зала: В начале своей лекции вы упомянули, что поп-музыка носит социализирующий характер. У нас хип-хоп становится всё более популярным, по-настоящему массовой музыкой. Стоит, наверное, ожидать, что он тоже будет транслировать свои ценности на общество. Как это соотносится с вашим пониманием хип-хопа как замкнутой группы?
Рондарев: В том-то и вся прелесть хип-хопа. Один из факторов, из-за которых я отношусь к нему крайне положительно – я его почти не слушаю. Я это уже сказал, но повторю – хип-хоп не претендует на нормативизацию всего общества, он нормативизирует исключительно свою субкультурную группу. У него нет претензий на универсальность, в отличие от русского рока. Это по большому счёту дробление авторитарного общества, ожидающего, что есть некая универсальная правда, и сейчас выйдет специальный человек, который эту правду сообщит. Это дробление на контркультурные, противодействующие друг другу группы, вместе составляющие гетерогенную неавторитарную структуру.
Если Оксимирон поднимет “Олимпийский”, а потом станет выступать вмете с Киркоровым – навреное, он сумеет протранслировать свои ценности всему обществу. Но я думаю, что этого не произойдёт, потому что Мирон – человек не глупый. Если он уловит потенцию к “тиматиизации” себя, к превращению себя в Тимати, то он сумеет остановиться вовремя.
Потому что у нас есть пример человека, транслирующего универсальные ценности языком хип-хопа – это Тимати. Это человек, который летает на самолёте Кадырова, доверенное лицо Путина, и при этом у него ничего не получается. Мне позвонили с какого-то радио и спросили о Тимати, и я сформулировал, что музыкально Тимати не так плох, как его репутация. Он не самый бездарный чтец. Но когда он выходит читать даже легитимные с точки зрения этой субкультуры хип-хоп тексты, то на него смотрят и говорят: “А, это Тимати, летал на самолёте с Кадыровым, сейчас он нам будет рассказывать, как правильно жить”. И вся его возможность говорить нормальным языком хип-хопа уничтожается тем, что он полностью замазался в этих властных структурах – то есть, в структурах универсализующих, предполагающих один единственный правильный ответ – то, что в хип-хопе не предполагается в принципе.
Вопрос из зала: Пара уточняющих вопросов. Первый: из хип-хоп артистов “Олимпийский” собирал не только Тимати, но ещё и Баста. Он тоже инкорпорирован в большой телевизионный нарратив, судья на “Голосе”, концерты в Большом кремлёвском дворце, он известен и популярен, но при этом остаётся легитимным. Ваше мнение насчёт того, можно ли быть известным в народе, но при этом оставаться легитимным в хип-хопе?
А второй вопрос – по поводу того, что Оксимирон надорвётся. Можно ли тогда рассматривать стратегию Фараона, который позиционирует свою субкультурность и не претендует на всеобщность, как стратегически более верную? Спасибо.
Рондарев: Я предполагаю (но это моё мнение, я не претендую на какую-то нормативную правду), что если хип-хопер начал поднимать кремлёвские дворцы (именно в нашей ситуации – на Западе всё совершенно иначе), то он потеряет легитимность тем или иным способом.
А что касается второго вопроса, то я считаю, что стратегия Фараона, и даже стратегия Фейса – более верная, и даже если она не принесёт материальных дивидендов, то в какой-то момент она сделает их обоих более легитимными. Мы уже видим, когда Гнойный убрал Оксимирона, ровно это и произошло – когда человек пришёл и сказал: “Понимаешь, чувак, у тебя нет темы, ты поёшь про себя. А мы, хип-хоперы, немножко не об этом”. И всё. Вышли люди и сказали: “Да, мы понимаем, Оксимирон – большой чувак, но выиграл Гнойный”.